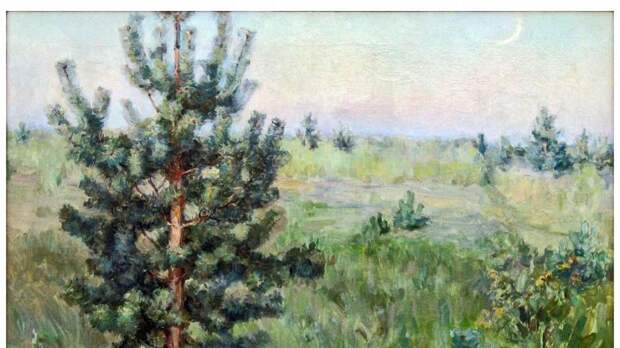
Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».
На рубеже XIX–XX веков Мария Якунчикова-Вебер была одной из самых многообещающих отечественных художниц. Предшественница «амазонок русского авангарда» — Наталии Гончаровой, Александры Экстер и других, — она принадлежала Серебряному веку. Ее жизнь, увы, прервал туберкулез, не позволивший ей в полной мере реализовать свой огромный талант.
Будущая художница появилась на свет в семье известного предпринимателя и мецената. Василий Якунчиков был соучредителем банков — Московского торгового и Русского для внешней торговли, владельцем кирпичных заводов, бумагопрядильной фабрики, магазинов. А еще человеком, не чуждым искусству — пожертвовал значительные средства на строительство Московской консерватории. Семья Якунчиковых жила неподалеку, в Среднем Кисловском переулке, а среди гостей музыкальных вечеров, которые устраивались в их особняке, были Чайковский, Рубинштейн, Скрябин... Заглядывали сюда и Третьяковы: хозяйка дома Зинаида Николаевна, урожденная Мамонтова, приходилась супруге Павла Михайловича родной сестрой. Старшая сестра Марии Наталья вышла замуж за прославленного живописца Василия Поленова, в дальнейшем отношения между их семействами установились самые теплые.
При этом в доме самих Якунчиковых обстановка была зачастую тягостной. Родители не ладили друг с другом, то расходились, то снова сходились... Об этом подробно рассказала в своих воспоминаниях близкая подруга, а впоследствии свекровь художницы Александра Гольштейн: «Семья Якунчиковых была далеко не сплоченная. Отец Маши, Василий Иванович Якунчиков, был человек очень умный, часто остроумный, приятный собеседник. Он воспитывался отчасти в Англии, очень ценил упорядоченность западной жизни. Свое большое состояние он установил лично. Несмотря на многие достоинства, его мало кто любил, потому что рядом с этими достоинствами у него были и крупные, и странные недостатки. Прежде всего, жизнью или самой природой навязанный исключительный матерьялизм и совершенно нелепая скупость... Зинаида Николаевна была натура артистическая, без признака каких бы то ни было талантов. В ней все было инстинктом, а главным инстинктом — чувство красоты, прирожденная любовь красоты во всех неодушевленных предметах и во всех живых существах... Она была не только не скупа, но очень расточительна, хотя средства ее были ограниченны: Василий Иванович выдавал ей определенную небольшую сумму ежегодно, кажется, проценты с суммы ее приданого, которое... после женитьбы вложил в дело своей фабрики, всегда одну и ту же сумму, невзирая на доходы, получившиеся на эти деньги на фабрике... Замуж вышла Зинаида Николаевна совсем молоденькой девушкой за Василия Ивановича, вдовца, имевшего детей от первого брака. Кажется мне, что на всю жизнь у нее осталось неудовлетворенное чувство любви. Ни мужа, ни своих детей она не любила. Только к Маше она почему-то привязалась и любила ее страстно, беззаветно, и такую же любовь перенесла потом на старшего сына Маши, Степана. Только этих двух людей она и любила за всю свою жизнь».
К сожалению, мир в семье Якунчиковых так и не воцарился. Родители в конце концов разошлись и продали усадьбу Введенское под Звенигородом, которую юная Маша очень любила. Тот тяжелый период она называла позже «не вовремя прерванным детством».
Рисовать начала в двенадцатилетнем возрасте. Одним из ее наставников был друг семьи Сергей Голоушев, впоследствии прославившийся как критик Сергей Глаголь. В 1885 году Мария поступила вольнослушательницей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Часто бывала у Поленовых дома, подолгу жила на их даче в Жуковке: именно там в 1887 году Машу написал Валентин Серов, который впоследствии не раз возвращался к этому образу, оставил ряд ее портретов (что было редкостью для мастера, отказывавшегося порой изображать даже монарших особ). Несмотря на большую разницу в возрасте, Елена Поленова стала близкой подругой Марии, а вместе с тем — наставницей: девушка участвовала в ее рисовальных вечерах, которые посещали Константин Коровин, Исаак Левитан, Михаил Нестеров и, конечно же, сам Василий Дмитриевич.
Все изменилось, когда у 18-летней Маши обнаружили туберкулез. Родные повезли ее на обследование в Берлин, потом ненадолго заехали в Париж. Некоторое время больная провела на лечении в Биаррице. Затем вновь оказалась в столице Франции, где проходила Всемирная выставка. Александра Гольштейн вспоминала: «Маша жила своей, отдельной от всех жизнью и увлекалась главным образом Парижем. Ей было бы трудно принимать участие в развлечениях сестер, она была больна, нуждалась в отдыхе. У нее болел большой палец правой руки. Боли были сильные, доктора не знали, что это такое. Впоследствии, помнится, это определяли как туберкулез. Болезнь эта не только тревожила и мучила Зинаиду Николаевну, но и многих людей, любивших Машу, между прочим, Василия Дмитриевича Поленова, говорившего с грустью, что эта болезнь — большое несчастие потому еще, что Маша чудно играла на рояле и должна была от этого отказаться навсегда. Красками писать и рисовать она могла, но долгое время в Париже ничего не писала. Ходила по музеям, многим восхищалась, но никогда, кажется мне, ей не приходило в голову делать копии. Она всматривалась в Париж, как будто искала, с чего бы сделать этюд. И вот помню, что первое, что она написала в то время, был этюд с ряда выставленных на улицах разноцветных афиш и объявлений. Тогда таких сборных афиш было всюду много. Очевидно, ее соблазнила красочность. Этюд был отличной, абсолютно точной копией с натуры. До последующих работ Маши было еще очень далеко, но большое мастерство кисти было налицо. Этот этюд был первым произведением Маши, которое я видела. Признаюсь, не поняла тогда ее таланта. Это хорошо, думала и ей говорила, но мне совсем не надобно. Кажется мне, что в первые месяцы в Париже Маша больше ничего не писала, слишком она была увлечена музеями и современной тогда французской живописью».
Мария поселилась у Гольштейнов, приходившихся ее отцу родственниками. В 1889 году поступила в парижскую Академию Жюлиана, где прежде училась другая талантливая русская художница Мария Башкирцева (та рано ушла из жизни и прославилась своими дневниками, в которых откровенно описывала переживания одаренной и честолюбивой девушки). Вольно или невольно сравнивая двух наделенных талантом тезок-соотечественниц, Александра Гольштейн писала: «В это время еще жива была память о Башкирцевой и ее друге Bastien Lepage’е. Башкирцева стяжала парижскую славу, об ней тогда все еще писали газеты, ее картина «Митинг» была взята в Люксембургский музей. Я видела, что Машу соблазняет слава русской художницы во Франции, думается, что отчасти и поэтому ей хотелось остаться в Париже. Но она не знала сущности славы Башкирцевой и себя не знала. Башкирцева была прежде всего очаровательной светской барышней, не лишенной, по словам художников, таланта. Вся ее слава была создана Bastien Lepage’ем, который безумно ее любил и умер чуть ли не одновременно с нею. Она была не только ученицей и подражательницей Lepage’а, но русские художники, справедливо или неверно, уверяли, что ее картины всегда поправлял Lepage, что опытный глаз сразу видит его мазки. Маша на светскую барышню совсем не походила, она не умела быть хотя бы просто любезной, где ей было прельщать французов своим очарованием. Но что гораздо важнее, ее могучий талант нисколько не нуждался в подражании и помощи, но шел неминуемо своим путем всегда и во всем».
В творческих поисках Мария Якунчикова двигалась через импрессионизм к символизму. Одна из самых известных ее гравюр «Страх» изображает бегущую по лесу молодую девушку с лицом, искаженным ужасом. Эта показанная в 1894 году в Салоне Марсова поля работа напоминала картину Эдварда Мунка «Крик», созданную чуть раньше и представленную автором в Берлине. Правда, исследователи сходятся во мнении: русская художница вряд ли успела ознакомиться с близким по духу полотном, поскольку нет сведений о ее поездке в Германию в ту пору. Можно говорить лишь о творческом совпадении, обусловленном предчувствием катастроф XX века.
О том, как создавалась гравюра, рассказывали по-разному. Максимилиан Волошин утверждал: «Однажды зимней ночью в Медонском лесу Якунчикова испытала ощущение острого ужаса при виде больших звезд, качавшихся среди голых ветвей. Из этого родился ее офорт... Случайное впечатление глаза дало это впечатление звезды — вечного символа ужаса для человечества». В мемуарах Александры Гольштейн встречаем другие сведения: «Бесподобный рисунок женщины, как бы бегущей в беспредельном ужасе. Этот рисунок был сделан без всякой модели. У меня остался в памяти этот небольшой рисунок как нечто поразительное, нечто, что вызывает в зрителе жуткое ощущение его названия — «L’effroi» («Страх». — «Свой») назвала его Маша. Не утверждаю, но кажется мне, что этот рисунок был навеян Маше ее собственным страхом: она присутствовала несколько раз на спиритических сеансах, испытывала такой страх, что не могла спать, и раз навсегда отказалась от этого занятия».
Якунчикова постепенно завоевывала все больший авторитет. Сергей Дягилев заказал ей эскиз обложки для первого номера журнала «Мир искусства». Жюри в итоге выбрало работу Константина Коровина, но Сергей Павлович использовал выполненное художницей изображение для обложки другого номера. Счастливым образом складывалась и личная жизнь Марии: дружба с сыном Александры Гольштейн Львом, Леоном Вебером, переросла в нежные чувства. В 1897 году они, несмотря на сопротивление родных (Лев Николаевич происходил из гораздо менее обеспеченной семьи), поженились. Свадьба прошла на родине невесты, по которой та, вынужденная постоянно проживать на чужбине, сильно тосковала. Ее свекровь свидетельствовала: «Если Маша впоследствии осталась за границей навсегда, то не потому, что не любила или забыла Россию. Ее любовь к русской природе была глубокой. В конце концов ведь от всего, что она писала, веяло всегда чем-то русским, каков бы ни был ее рисунок, даже вид на Монблан из окна... Но не Москва, не дом на Кисловке оставили неизгладимый след в ее душе, а Введенское, большое барское имение... Маша провела там детство и отрочество. Введенское она не забывала никогда. Помню, как однажды в Биаррице... Маша повела меня в какой-то чулан — они жили в отеле — и сказала: «Нюхай хорошенько, чем здесь пахнет?» Пахло затхлостью и как будто сухой розой, так часто пахло в очень старых помещичьих домах в России. Я сразу сказала — «Нестеровым» (имение моей бабушки). Маша страшно обрадовалась: «Значит, я не ошиблась. По-моему, пахнет Введенским». Она была взволнована, долго стояла и глубоко вдыхала затхлый дух чулана. «Как там было хорошо», — сказала она со слезами на глазах.
Мне всегда казалось, что, если бы Василий Иванович не продал Введенское, Маша не осталась бы за границей. Для нее Введенское было Россией. Введенское, кажется мне, определило и ее личный характер, и характер ее таланта. В ее душе, сердце, уме навсегда осталась и всегда жила природа и дух старой дворянской усадьбы: сады, цветники, пруды, въездные аллеи (в Введенском такая аллея тянулась на версты), могучий, но тихий простор луговых равнин. Цветы этих равнин, «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду».
В 1898 году у четы Веберов родился сын Степан, однако семейное счастье длилось недолго: у Марии Васильевны обострился туберкулез. Вторая беременность далась ей еще тяжелее. Супруг возил страдавшую от неизлечимой болезни жену на курорты, купил дом в Швейцарии. Усилия врачей не помогли, в декабре 1902 года Мария Якунчикова скончалась. Память о своей талантливой супруге Лев Николаевич хранил всю жизнь, а их старший сын, ставший впоследствии архитектором, строил в горах санатории.
Свежие комментарии